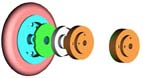Современник
Дмитрий Быков
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий... в эпоху очередного наступления на грабли... в ожидании закручивания гаек... в эпоху возвращения привычных страхов... в начале крутого национального подъема... одним словом, в определенные эпохи надо перечитывать русскую классику.И вот тогда, во времена перечитывания русских классиков, перед глазами русского интеллигента, будь он хоть еврей, хоть татарин, встает одна страдальческая тень, уже наступившая на все возможные грабли, семижды проклятая, трижды позолоченная и все-таки великая.Ее зовут Некрасов Николай Алексеевич. Я заметил вдруг, что только его и могу сейчас перечитывать.Современник
...Начну с того, что я не люблю Герцена. Насколько я успел заметить, все интеллигенты могут быть легко разделены на две породы (их несравнимо больше, но основополагающих две). Ахматова, чтобы идентифицировать гостя, предлагала вопросник: чай или кофе? собака или кошка? Пастернак или Мандельштам? Набор "чай, собака, Пастернак" изобличал человека надежного, но простоватого; "кофе, кошка, Мандельштам" -- более изысканного, но менее нравственного. Лично я ввел бы одну оппозицию -- Некрасов и Герцен. Не сказать, чтобы я уж так сильно не любил самого Александра Иваныча, но я очень не люблю тех, кто любит его.
Мне не нравится его пламенное благородство, которое он так подчеркивает каждой своей фразой (против самого благородства, как вы понимаете, я ничего не имею). Не нравится блеск его обличений и упоительная либеральность. Не нравится то, что он, как большинство эмигрантов-радикалов, жил под девизом "Чем хуже, тем лучше". Он был до того безупречен, что ожидать от него хороших художественных произведений просто невозможно. Безупречные люди, в особенности либералы, не могут писать сильных художественных текстов. Им удается только публицистика.
Но главное, чего я никогда не прощу Герцену (которому, слава Богу, и дела нет до моего прощения-непрощения), -- это травля Некрасова, которую он устроил у себя в "Колоколе", это его инвективы в адрес моего любимого поэта, это его сияющая репутация на фоне некрасовской, более чем сомнительной. При том что для русского самосознания и русской литературы такой-сякой немазаный Некрасов, человек хитрый, непоследовательный и грешный, сделал вдесятеро больше безупречного Герцена. А еще Некрасов любил Россию. Что не помешало ей, впрочем, превосходным образом его сожрать.
У него есть стихотворение "Демону" -- не такое уж раннее, 1855 года, с дешифровкой которого у филологов сильные затруднения. Некрасов и сам на полях записал, готовя очередное собрание, -- "объяснить". Но не объяснил. В стихотворении он обращается к некоему могущественному духу, являвшемуся его смущать и искушать; прошли, однако, времена, когда он глубоко ненавидел и бескорыстно любил, и демон его оставил. "Иль потому не приходишь, что уж доволен ты мной?" -- спрашивает автор у своего "учителя".
С этим учителем -- проблемы: ясно же, что не к Белинскому обращается, как ни хотелось бы советскому литературоведению сделать Некрасова чуть ли не прямым наследником и ближайшим учеником неистового Виссариона. Лично мне кажется, что речь идет о Лермонтове, который Некрасова искушал-таки, и сильно; следы влияний -- и прямых, в самых ранних стихах, и преодоленных, преломившихся, -- встречаются на каждом шагу. Если подсчитать, сколько у Николая Алексеевича скрытых цитат из Лермонтова (часто иронически перевранных, чтобы преодолеть наконец это всепобеждающее влияние), выяснится, что он далеко опережает всех прочих авторов. Как только наш герой над ним не измывался! Тут тебе и "Колыбельная" ("Спи, подлец, пока невинный"), и знаменитое "Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал", только без чеченца. В общем, бежал от него, как мог. А все-таки Некрасов -- прямой и единственный продолжатель лермонтовской линии, той великой эстафеты, которая у нас чудесным образом не прерывается, несмотря на все старания Родины.
Магическая, мистическая эта линия -- с ее божественным сладкозвучием, мистической печалью и неизбывной тоской от любого соприкосновения с реальностью -- началась у Жуковского, особенно сильно и полно зазвучала у Лермонтова и перешла к Некрасову, который передал эстафету Блоку. О дальнейших ее приключениях можно спорить (я назвал бы Заболоцкого). Есть "слезный дар", дар заставить читателя рыдать -- и Лермонтов, и Некрасов владели им в совершенстве. И оба, по контрасту со звездными безднами и горными высями, ледяной ненавистью ненавидели реальность: видеть в этом мотив социальный, революционный -- крайняя близорукость. При любом строе оба любили бы только дали, выси, большие страсти, женщин-мучительниц, с которыми сегодня тонешь в блаженстве, а завтра в отчаянии, а все прочее ненавидели бы желчной, усталой ненавистью идеалистов. Некрасов -- прямой потомок Лермонтова, лучший его ученик, понявший, что нельзя вечно оставаться в рамках учительской традиции: он с какой-то особенной болью и страстью кидается на улицу, в трущобу, в пучину пошлости и тоски, с мазохизмом истинного романтика живописует городское дно и журнальную низость, чтобы тем пронзительней, тем мучительней был чистый звук: "Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму... Плакал наш сын, и холодные руки ты согревала дыханьем ему".
И ведь находились идиоты, которые всерьез пытались противопоставить эти чистейшие ноты, эти рвущиеся струны -- и собственную его жизнь, жадность, журнальные дрязги, сверхъестественно высокие гонорары его сотрудников, банальную их перекупку, картежничество, наконец... Фолкнер перед каждой большой прозой уходил в запой -- что-то ему такое открывалось в этом состоянии, на пределе падения; Михаил Успенский, тоже не последний писатель нашего времени, мне как-то этот феномен объяснил, тем более что и пил в свое время почти как Фолкнер. Писательство растет из стыда, без этого корня оно иссыхает. Запойный пьяница испытывает стыд постоянно, он ненавидит себя, а это эмоция плодотворная. Некрасов играл, как Фолкнер пил: "чтобы размотать нервы" -- говорил он сам; и верно, только на размотанном нерве и можно было писать. Вся его пресловутая "безнравственность", о которой даже Чуковский спрашивал в своей анкете, была всего-навсего способом довести до максимума эмоциональный диапазон, возненавидеть себя и над собой в конечном итоге взлететь. Разумеется, при всем этом на нем нет ни одного крупного злодейства, если не считать одного отказа в деньгах: не давал в долг накануне игры, плохая примета. Проситель застрелился. Некрасов впал в месячную депрессию, лежал на диване лицом к стене, никого не хотел видеть; если учесть, что депрессии такие случались у него по нескольку раз в году, -- непонятно, как он успел столько издать и написать; а впрочем, только работой он себя и глушил. Это первый русский литератор, научившийся держать себя в руках: держал в год до 80 листов корректур (интенсивно их правя, многих переписывая), давал обеды цензорам, заполнял пустующие разделы (когда поэзией, когда прозой, когда стихотворными шутками и водевилями; умел ВСЕ). С депрессией, которую у идеалиста вызывает даже перемена погоды, только так и можно бороться.
К вопросу о безнравственности Некрасова и нравственности Герцена: была одна темная история, в подробности которой я тут входить не хочу, хотя она и так довольно известна. Коротко говоря, Панаева незаконно присвоила деньги своей подруги, женщины, находившейся в положении бедственном. Некрасов взял грех на себя -- ему, собственно, не привыкать было подставляться, только тем и занимался. Письма его к Панаевой уничтожены, из крошечного сохранившегося отрывка нам известно, что он принял на себя ее грех и никогда ни словом ее не попрекнул. Герцен прекрасно знал подоплеку всего происшествия (на это есть указания, тот же Чуковский в свое время их нашел), но не упускал случая ткнуть Некрасову в глаза тот поступок, открыто называя оппонента подлецом. Я не говорю уж об истории со стихами к Муравьеву, она тоже хорошо известна, однако перескажем вкратце.
В 1865 году "Современник" надо было спасать любой ценой, закрытие журнала было вопросом месяцев. Некрасов сочинил Муравьеву торжественную оду -- оду "вешателю", реакционеру из реакционеров, мерзавцу даже по меркам современных консерваторов. Эту оду он неловко, краснея и запинаясь, прочел ему в Английском клубе. Муравьев холодно высказался в том духе, что "прежде было вам глядети", а журнал через месяц все равно закрылся. Компромисс, как почти все компромиссы, оказался бессмысленным -- Герцен, однако, не преминул из Лондона заметить, что придерживался, оказывается, слишком мягкого мнения о мере подлости г-на Некрасова... "Браво, браво, г-н Некрасов!" -- воскликнул он в "Колоколе". Вторил ему идейный противник, актер и стихоплет Петр Каратыгин: "Из самых КРАсных наш НеКРАсов либеРАл, железный демоКРАт, неподкупной сатирик! Ужели не КРАснел, когда читал ты Муравьеву свой преКРАсный панегирик!" У нас обожают ловить литераторов на компромиссах, причем делают это, как правило, люди, чья жизнь состоит из одних бескомпромиссных, последовательных мерзостей -- все равно как если бы людоеды хором сбежались позорить вегетарианца, раз в жизни попробовавшего говядину... "Хорошую ночь я провел" -- скупо записано у Некрасова после инцидента с Муравьевым.
А впрочем, что я делаю из него святого! Он был железный профессионал, расчетливый и умелый редактор, научившийся делать журнал в условиях цензурного гнета, вдвойне ожесточившегося после того, как самый либеральный русский царь лично разочаровался в собственных реформах и очень быстро отыграл назад. Некрасов делал "Современник" не только в пятидесятые, когда общество жило радужными надеждами (даже Герцен их разделял, на что уж не питал иллюзий в отношении власти), но и в первой половине шестидесятых, когда либерализм, достигнув пика, постепенно изводился на корню. Ни к чему не бываем мы так беспощадны, как к собственным заблуждениям -- и Александр II не был исключением. Не видя в обществе искренней благодарности, а видя лишь желание новых свобод, вопли о недостаточности реформ, о заигрывании правительства с литераторами (все это на фоне патологического озлобления со стороны староверов и стародумов, вопящих о крушении основ), он очень быстро принялся закручивать гайки. Удивляться надо не тому, что "Современник" закрыли в шестьдесят шестом, а тому, что в шестьдесят пятом Некрасов его еще издавал!
И ведь как издавал: вот у кого учились все будущие русские редакторы, ибо традиция перекрывания кислорода в русской общественной жизни сильнее всякой другой! Отношения Некрасова с цензорами -- тема, достойная отдельного исследования, да что исследования -- романа. Он умел проигрывать в карты кому надо. Эти завуалированные взятки никого не оскорбляли. Он закатывал для цензоров роскошнейшие обеды с тонкими винами, за что дополнительно получал от Герцена и его единомышленников: вот, скорбит о народе, а как пирует, поди ж ты! Более того, он деньгами помогал цензорам, снятым за чрезмерную мягкость. Была история с одним таким цензором, которого он чудом уломал пропустить несколько социально-политических статей, все о загранице (еще Набоков умилялся этому приему -- писать о загранице и постоянно это подчеркивать, чтобы читатель тем вернее применил прочитанное к России). Цензора выгнали. Некрасов тут же поехал к нему с деньгами ("на первое время"), помогал с поисками места... А какой трактат можно бы написать о способах привлечения и удержания авторов -- способах порядочно-таки циничных, но действенных! Тут тоже много спорного, взять хоть историю с Тургеневым, которого он в числе сотрудников не удержал, напечатав таки (невзирая на все тургеневские протесты) добролюбовскую статью о "Накануне". Статья плохая, нет слов, лобовая и прямолинейная, и для автора опасная. Но, с другой стороны, не боялся писать -- что ж боишься, когда твои намерения правильно интерпретируются? И то, что в этой ситуации Некрасов предпочел полунищего и безвестного Добролюбова всероссийски знаменитому Тургеневу, тоже мне симпатично, как хотите: ведь не одной же подписки ради он придавал журналу радикально-революционный характер? Ради подписки вполне довольно было бы печатать хорошую русскую и переводную прозу, да и сам он отлично умел сочинять авантюрное чтиво -- тому свидетельством остаются "Три страны света", классическое журнальное заполнение, ставшее тем не менее фактом большой литературы!
О, какой это был редактор. Личных амбиций для него не существовало -- спасая журнал, обращался к авторам, с которыми некогда поссорился, выторговал у Достоевского для "Отечественных записок" новый большой роман "Подросток" (шиш Каткову!), даром что отношения с Достоевским были неровные, сложные. Улучил ведь момент, когда Достоевский и сам расхотел печататься у Каткова, обидевшись на изъятие из "Бесов" важнейшей главы "У Тихона"! Из "Отечественных записок" сделал второй "Современник", взвинтил подписку, умудрялся во второй половине семидесятых протаскивать яростные социальные тексты... Перед смертью узнал о том, что "Пир на весь мир" -- центральная часть "Кому на Руси жить хорошо" -- вырезана из очередной журнальной книжки. "Начал с того, что столкнулся с ножницами, и перед смертью наталкиваюсь на ножницы", -- только и сказал. И все это под двойным огнем: Некрасова не жалел никто. "Ничьего не прошу сожаленья, да и некому будет жалеть" -- это не просто так сказано, не в попытке разжалобить русское общество. Трудно найти в русской истории писателя и издателя, который бы чаще подставлялся и больше потерпел в общественном мнении. Ну разве что Розанов -- за публицистику, которая печаталась у него то в либеральнейших, то в черносотенных изданиях. В России вообще не любят людей, имеющих собственное мнение и пытающихся что-то делать. Их бьют и справа, и слева. Радикалы ему навешивали таких оплеух, что консерваторы только завистливо дивились: полемика с Писаревым и Зайцевым велась с обеих сторон в самых непарламентских выражениях. И поди ты возрази человеку, сидящему в крепости, как Писарев, или издающему за границей "Колокол", как Герцен! Для одних Некрасов был слишком революционен, для других -- недостаточно революционен и последователен; для одних лирика его была слишком приземленной и "грязной" (чего стоит отвратительный поздний отзыв Тургенева), для других же, не признававших никакой лирики, -- вообще выглядела напрасным сотрясением воздуха: бороться надо, а тут стишки! В этих-то условиях, между двух огней, он написал лучшие стихи в русской литературе второй половины века, стихи, чья хриплая трагическая мощь заглушает голоса Тютчева, Фета, Полонского -- прекрасных поэтов, нет слов, но поэтов второго ряда. В первом -- он был один.
Тут следовало бы много, щедро его цитировать (чего не позволяет журнальная площадь, память бы позволила -- его стихи запоминаются мгновенно, как и лермонтовские). Я вспомнил бы и "Современников" с их острыми, краткими, убийственными характеристиками, никогда не терявшими актуальности, и любовную лирику, о которой лучше всех сказал Кушнер: "Слово 0сравнительно поздно появилось у нас в словаре, от некрасовской музы нервозной в петербургском промозглом дворе. Даже лошадь нервически скоро в его желчном трехдольнике шла. Разночинная пылкая ссора и в любви его темой была: крупный счет от модистки, и слезы, и больной, истерический смех... Исторически эти неврозы объясняются болью за всех..." Стоило бы вспомнить и "В дороге" -- стихотворение, после которого Белинский, уж четыре года знавший нашего героя как отменного журналиста и исключительной силы преферансиста, с удивлением сказал: "Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный!" -- хотя первый комплимент, адресованный им Некрасову, звучал совсем иначе: "Эдак вы нас всех без сапог оставите" (Некрасов поймал Белинского на мизере и впарил ему паровоз). Я мало знаю людей, способных удержаться от слез при чтении стихов об осиротевшей, схоронившей сына старухе: "Кто, как проносится теплая шубушка, зайчиков новых набьет? Умер, Касьяновна, умер, голубушка, даром ружье пропадет!" И везде-то у него, как соль на рану, еще какая-то деталь, принижающая пафос, иронией разъедающая читательское сострадание. Апофеозом этой желчной сентиментальности видится мне его смешное, жутко смешное стихотворение о войне двенадцатого года -- как крестьяне поймали француза, отставшего от обоза, и убили сначала его, потом его жену (очень уж по нему убивалась), потом и детишек (что ж мучиться сироткам)... О доброте русского народа трудно высказаться более исчерпывающим образом.
Я думаю, его по-настоящему способен оценить только поэт. То есть он, конечно, многое говорит всякому читателю, если только читатель этот не принадлежит к породе русских интеллигентов, этих честнейших людей, отовсюду способных выхолостить живую душу и ценящих в стихах только "направление". Омерзение продирает, как подумаешь о тысячах этих хмурых, мрачных людей, которых за их хмурость и мрачность, за дурной запах и неряшливость женщины не любят, и вот они утешаются некрасовской лирикой, обращенной к Панаевой, а подвыпив, заводят тонкими сиплыми голосами: "Укажи мне такую обитель". Поистине гениален должен быть поэт, который, имея такого читателя, пройдя через горнило советской пропаганды, насаждавшей его без меры и удержу, сохраняет привлекательность, силу и актуальность! Но поэт его оценит по-настоящему -- он увидит, как Некрасов работает с речью, с фольклором, с городским жаргоном, как пользуется реалиями, как увлекательно и естественно рассказывает (не сбиваясь, однако, на прозу, ибо речь его лаконична и музыкальна). Этот-то опыт, бесценный для пишущего человека, помог Твардовскому сладить со своей непоэтической эпохой, а сегодня помогает Кибирову, чьи некрасовские корни не вызывают никакого сомнения. Я все это пишу не потому, что в некрасовском опыте ищу самооправдания. Опытом Некрасова нельзя утешиться, ибо не больно-то утешительно сознание того факта, что в русской литературе, журналистике и интеллигенции наблюдается только одна динамика -- измельчание, остальное все сохранилось в неизменности, вплоть до полемики на два фронта, которую вынужден тут вести всякий порядочный человек... Опыт Некрасова нужен, во-первых, поэту, который не брезгует работой с реальностью и не довольствуется экзерсисами, а во-вторых, всякому человеку, у которого опускаются руки. Этот опыт напоминает: "И погромче нас были витии, а не сделали пользы пером. Дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем". Следует ли опускать руки? Не следует и не получится, потому что жизнь неизбежна и работа наша неизбежна. Случай Некрасова -- лучшее тому подтверждение.